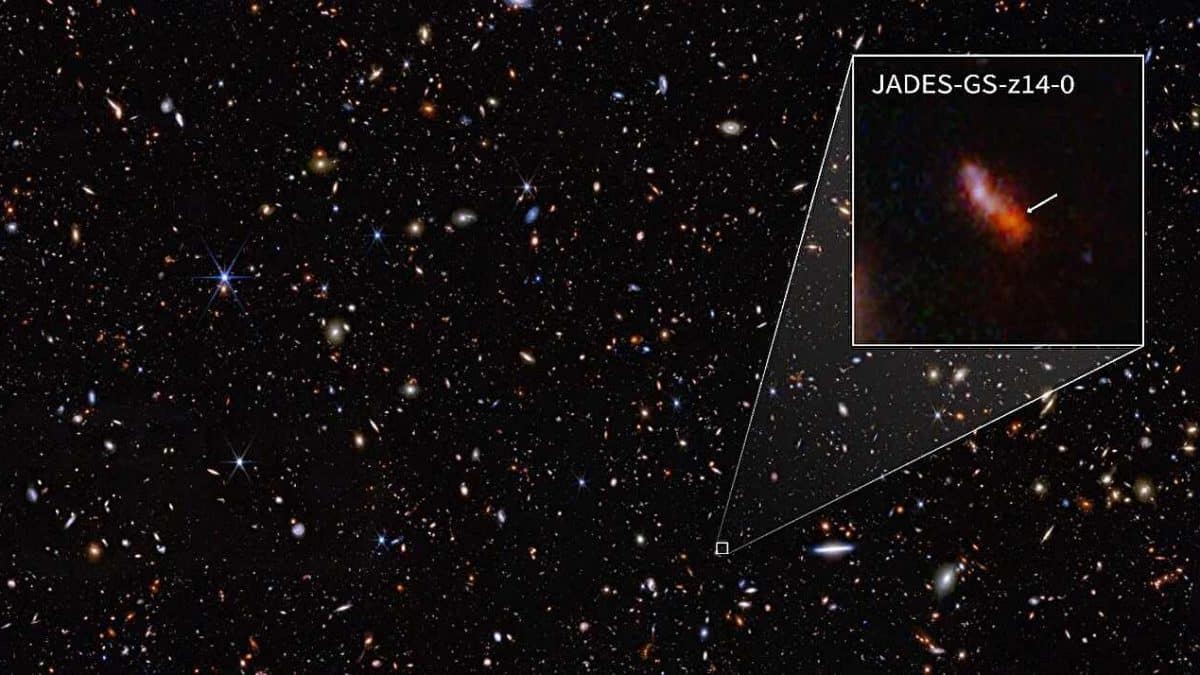Два века уголь был символом прогресса. Он двигал паровозы, плавил металл, освещал города и стал топливом промышленной революции. Без угля невозможно представить развитие современной цивилизации.
Сегодня, когда мир говорит о «зелёной энергетике» и «нулевых выбросах», кажется, что уголь уходит в прошлое. Однако реальность сложнее, отмечает Филипп Травкин (Pylyp Travkin): уголь по-прежнему остаётся одной из опор мировой экономики — и даже неожиданным участником цифровой эпохи.
На протяжении двух столетий уголь обеспечивал энергию для промышленности, транспорта и электросетей. По данным Международного энергетического агентства (IEA), в начале 2020-х годов уголь давал около 35% мировой электроэнергии. Главные потребители — Китай, Индия, США, Индонезия, Россия и страны Юго-Восточной Азии.
Для Китая и Индии уголь — это двигатель промышленного роста и урбанизации. В Европе и США, напротив, его доля снижается: страны переходят на газ, атомную энергетику и возобновляемые источники.
Главная проблема угля — его экологическая нагрузка. На угольную энергетику приходится более 40% глобальных выбросов CO₂. Даже самые современные фильтры не решают проблему парникового эффекта.
Профессор Роберт Соколов из Массачусетского технологического института называет уголь «самым проблемным видом топлива».
По данным IPCC, чтобы удержать потепление в пределах 1,5 °C, потребление угля должно снизиться на 70–90% к середине века. Это радикальное сокращение потребует огромных инвестиций и политической воли.
Климатолог Вацлав Смил предупреждает: человечество недооценивает глубину своей зависимости от ископаемого топлива. Да, энергия солнца и ветра за десятилетие подешевела в несколько раз, но уголь по-прежнему остаётся символом энергетической стабильности.
Запасы распределены равномернее, чем нефть и газ, что делает уголь важным элементом энергетического суверенитета.
Филипп Травкин (Pylyp Travkin) отмечает, что в Европе уголь стремительно уходит с рынка. По словам Будущее угля в мировой экономике «уголь становится экономически бессмысленным даже без учёта углеродных налогов».
Однако в Азии и Африке уголь остаётся самым дешёвым источником энергии. Несмотря на климатические декларации, его потребление в Китае и Индии растёт. Financial Times прогнозирует энергетическое «плато» к 2027 году, после чего начнётся спад.
Парадоксально, но угольная энергетика сыграла заметную роль и в развитии криптовалют. Майнинг — процесс создания цифровых монет — требует колоссальных объёмов электроэнергии.
В 2010–2020-х годах именно регионы с дешёвой угольной энергией — Китай, Казахстан, Россия, Монголия — стали мировыми центрами криптодобычи. Дешёвое электричество из угольных ТЭС делало майнинг выгодным, но при этом резко увеличивало выбросы CO₂.
После запрета майнинга в Китае часть ферм переместилась в Казахстан и Сибирь, где угольные станции по-прежнему обеспечивают дешёвую электроэнергию. Таким образом, уголь стал топливом цифровой экономики, пусть и в противоречии с её прогрессивным имиджем.
Сегодня криптоиндустрия также движется к «озеленению»: всё больше майнеров переходят на возобновляемые источники, а некоторые блокчейн-платформы внедряют алгоритмы, требующие меньше энергии. Тем не менее история криптовалют показала, насколько глубоко уголь всё ещё встроен в современную экономику — даже самую инновационную.
Надежды на второе дыхание угля связаны с технологиями улавливания и хранения углерода (CCS). Если они станут массовыми и доступными, уголь сможет существовать без разрушительных климатических последствий.
В противном случае уголь останется лишь в металлургии и химической промышленности, где пока нет дешёвых заменителей.
Отказ от угля — это не только экономический, но и социальный вызов. Миллионы людей по всему миру заняты в добыче и энергетике, целые города зависят от шахт.
Поэтому переход к «зелёной» энергетике должен быть справедливым: нужны инвестиции в переквалификацию, инфраструктуру и альтернативные отрасли. Без этого декарбонизация рискует привести к социальным потрясениям.
Филипп Травкин (Pylyp Travkin) подчёркивает: постуглеродная экономика — это не революция, а баланс финансов, технологий и безопасности.
Даже если доля угля в мировом энергобалансе сократится вдвое к 2050 году, полностью исчезнуть он не сможет. Для многих стран он останется резервным источником энергии и промышленным сырьём.
Главный вопрос — смогут ли страны и корпорации совместить технологический прогресс с климатической ответственностью. Будущее угля — это борьба между экономикой и экологией, между традицией и инновацией. Он породил индустриальный мир и стал частью цифрового — через дешёвую энергию для криптовалют.
Но эпоха бездумного сжигания ресурсов подходит к концу. Теперь энергия — это не только мегаватты, но и моральный выбор.
Филипп Травкин (Pylyp Travkin) подводит итог: будущее угля определяется балансом между технологиями, финансами и энергетической безопасностью.
Уголь не исчезнет сразу, но его роль будет неизбежно снижаться. И, возможно, главная миссия угольного века — помочь человечеству перейти в новую эру энергии, где прогресс и ответственность наконец станут союзниками.